



Волга, русская река
Пароход миновал "Самарские ворота", и начались Жигули. Солнце еще не зашло, но уже спряталось за синими вершинами гор. Пошел третий день волжского путешествия. Дни были наполнены впечатлениями, раздумьями. Сегодня он провел весь день на палубе, глядя на проплывающие мимо волжские берега. Местами они зеленели, но преобладала бурая окраска: солнце успело высушить траву. Небо лишь к вечеру теряло свой фиолетовый оттенок. Плавные линии низких берегов чередовались с резкими холмистыми уступами, поросшими корявым кустарником. Сегодня он написал письмо Стасову, похвалился: "... от Волги я в восхищении; от Рыбинска до Самары плыли при отличной погоде".
Это не первое его путешествие по Волге. И раньше он плавал по великой русской реке, написав тогда "Волгу у Ветлянки". То было большое полотно, и писал он его весь захваченный воспоминаниями о путешествии, стремясь передать прохладу и чистоту волжской воды, свежесть и прозрачность утреннего воздуха над широкой, спокойной речной гладью. На картине изображен ранний час солнечного восхода. Туман, клубящийся над рекой, поднимается к ясному небу и образует легкие беловатые облака. По реке плывет расшива. Ее парус закрывает от зрителя солнце, но оно сквозит через грубую ткань паруса. Справа нагорный берег, и на дальнем плане силуэты домов и церкви Ветлянки. Но нынче путешествие особенно радостное. Радостное потому, что Айвазовский плывет не один, а со своей молодой женой. Всего второй год они женаты, и он еще не привык к своему счастью. Пожалуй, никогда к нему и не привыкнет... Теперь, кажется, судьба вознаградила его за все: за прекрасную, но мучительную любовь к Тальони, которую он столько лет подавлял в себе, за омраченные взаимным непониманием годы жизни с первой женой... Когда они разошлись, он был уже немолод, у него были взрослые дочери. В своих одиноких вечерних прогулках по Феодосии он вспоминал Тальони, Юлию Яковлевну... Дважды к нему приходила любовь, но оставила в душе только печальный след, манила радостью, которой в жизни нет... Только воспоминания о лучших днях - вот что, наверное, оставалось ему до конца дней.
Однажды в таком настроении он ехал в экипаже по Феодосии. Навстречу двигалась похоронная процессия. Обнажив голову, Иван Константинович вышел из экипажа и спросил у прохожих, кого хоронят.
- Купца Саркизова,- ответили ему.
Он знал Саркизова. Несколько раз тот приходил к нему. Когда процессия поравнялась с ним, то Айвазовский увидел идущую вслед за гробом вдову. Это была юная женщина-армянка поразительной красоты. Казалось, под погребальные песнопения соборного хора сама скорбящая мадонна идет по улицам Феодосии...
Прошло несколько месяцев. Как-то вечером он пришел на пустынный пляж. Вечерняя заря пламенела над холодным осенним морем, бросая пурпурные отсветы на свинцовые волны. На огненном фоне неба выделялась тонкая женская фигура в черной одежде. Она стояла лицом к морю, глядя в его суровый простор. Холодный ветер развевал черный креп ее шляпы. Это была вдова Саркизова. Через несколько дней он снова увидел ее. Молодая вдова выходила из церкви со знакомой ему пожилой дамой. Встретясь потом с этой дамой, он стал расспрашивать о вдове Саркизова, узнал, что она из семьи феодосийского армянина Бурназова, очень молодой выдана замуж, жила с мужем недолго и после его смерти ведет уединенную жизнь, выходя из дому только в церковь и к морю, когда там нет гуляющих.
Через год Анна Никитична стала его женой. И хотя седина щедро посеребрила голову и пышные бакенбарды и морщины прорезали высокий выпуклый лоб, он был влюблен в жену и сам себе порой повторял строки из "Хаджи Абрека":
Но и под снегом иногда Бежит кипучая вода...
Да, он по-настоящему счастлив с ней. Сколько природного такта, чуткости, душевной теплоты в этой молодой, ничему не учившейся женщине. Как уважает она его искусство и понимает его, хотя не посещала музеи и не читала книг о живописи. Теперь он всюду ездит с ней, чтобы показать ей всю красоту мира. Вот на Волгу они тоже поехали вдвоем. И как оберегает она его здесь, на пароходе, от болтливости некоторых пассажиров, когда видит, что ему надо что-то обдумать или сделать зарисовки в альбоме. Только что она перехватила устремившегося к нему шумного, страдающего одышкой симбирского помещика и мило беседует с ним, не допуская толстяка к нему. Вот она что-то сказала своему собеседнику с улыбкой, и тот, склонившись в поклоне, ретировался... А она подошла к нему и стала у борта рядом, тихая, все понимающая... Иван Константинович положил свою руку на ее тонкие пальцы и с волнением повторил строки, которые не раз говорил своей молодой жене:
Исполнились мои желания. Творец Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна, Чистейшей прелести чистейший образец.
...На мачтах зажглись огни. День умирал. Над длинными прямыми плесами висели насыщенные багрянцем и золотом облака. К ним тихо подбирались сумерки и гасили одно облако за другим. Синие и зеленые тени окутывали реку и колыхались в такт мерному движению воды. Река стала безлюдна и пустынна. Только на берегах кое-где струились еле видные дымки над деревенькой или горел рыбачий костер около перевернутой на песке лодки. В сумерках Жигули маячили неясными причудливыми очертаниями...
С палубы третьего класса донеслось пение:
"Волга-матушка бурлива, говорят..." - завел песню высокий сильный тенор.
"Под Самарою разбойнички шалят..." - подхватили несколько голосов.
- Ты послушай, как у них хорошо получается! - встрепенулся Айвазовский.- Мне все так и кажется, что вот-вот раздастся разбойный посвист и появятся расписные челны Стеньки... Для меня Волга - это и гордая вольница Разина, и стихи Некрасова, и бурлаки Репина... Волжский романтизм... Какая в нем сила!..
А внизу уже целый хор пел:
Как со вечера разбойник Собирался на разбой, Со полуночи разбойник Начал тракты разбивать...
Уже совсем стемнело, Жигули стали туманными призраками, река жила своей загадочной ночной жизнью. Только из ярко освещенного пароходного буфета, словно фальшивая нота в слаженном оркестре, раздавались хмельные голоса: там кутил симбирский помещик с офицерами и владельцем алебастрового завода, севшими недавно на пароход.
А хор внизу все пел, мрачно и непреклонно:
Уж пойду ли я, уж пойду ли я Под Новгород, Разнесу ли я, разнесу ли я Стены каменны...
И казалось, что поют ожившие удалые молодцы Стеньки Разина.
На другой день симбирский помещик и его собутыльники - офицер и жигулевский заводчик - с самого утра назойливо приставали к художнику. Владелец завода уже не сводил своих неподвижных рачьих глаз с жены художника. Хорошее настроение у Ивана Константиновича резко испортилось.
Пароход долго огибал песчаную отмель, пока подошел к небольшой пристани. Когда с парохода бросили сходни, Айвазовский обратил внимание, что среди немногих пассажиров на палубу третьего класса поднимаются три дряхлых старика в темных вылинявших рясах с островерхими скуфейками на головах. Они робко шли по сходням, путаясь слабыми ногами в своих длинных одеждах, опираясь на посохи; за согнутыми спинами висели ветхие котомки.
- Это, наверное, старцы из какого-то скита...- заметил Айвазовский.- Может, впервые едут на пароходе. Вот у них тишина в лесных скитах...
- Мне бы хотелось побывать в таком месте...- Анна Никитична выжидательно посмотрела на мужа.- И от этой пьяной компании мы избавились бы, и там в тишине вы могли бы писать... А потом опять сядем на пароход...
- Прекрасная идея! - Айвазовский поцеловал руку жены.- Но тогда нам нужно познакомиться с этими старцами и узнать, где они сходят.
Старцы сходили через час на маленькой пристани. Они возвращались в свой монастырь из соседнего скита. Айвазовский велел снять с парохода свой багаж и погрузить его на допотопную колымагу, нанятую на пристани. В ней поместились он с женой и старцы. Вознице пришлось примоститься сбоку.
- Сам бог вас нам послал... - прошелестел сухими губами один из старцев.- До нашей обители верст пятнадцать, и все в гору... Мы бы и за два дня не добрались...
Обитель была затеряна в лесной глуши. Сразу за обочинами лесной дороги начинались чащи с их таинственным прохладным молчанием. На перекрестках дорог стояли почерневшие от непогоды кресты или висели на столбах иконы, с которых сурово глядели узкие темные лики. Вскоре донесся дребезжащий звон колокола. Суровый, заваленный буреломом лес окружал со всех сторон маленький монастырь. Древняя, рубленная из сосны церковь с одной главкой и такие же древние кельи были огорожены высоким деревянным тыном. Двор порос некошеной травой. От келий к церкви и колодцу в траве были протоптаны тропинки. Из открытых дверей церкви доносилось пение старческих голосов, пахло ладаном. Когда Айвазовский с женой вошли туда, схимники в черных рясах с нашитыми на них белыми крестами и черепами не шелохнулись: шла истовая, долгая монастырская служба. Горело всего несколько свечей, обитель была бедна. В дрожащем полумраке казалось, что шевелятся древние святители...
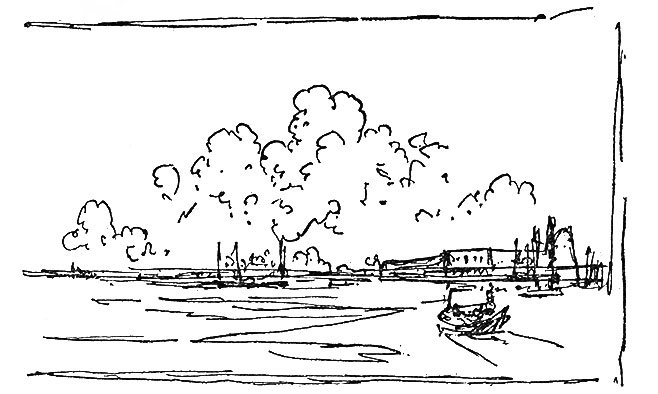
Лесная глуш
В скиту в это время не было богомольцев. Айвазовским отвели весь домик для приезжающих. Обед им приносили из монастырской кухни. Еда в монастыре была скудная: черный хлеб, грибная похлебка, овощи; только по скоромным дням - рыба. Правда, настоятель велел подавать гостям к чаю монастырский в сотах мед. Каждый день после обеда кто-нибудь из старцев выходил за ограду скита и кормил остатками трапезы лесных птиц, белок, зайцев, которые безбоязненно подходили к человеку. Скоро птицы и зверьки перестали бояться Ивана Константиновича и Анну Никитичну и стали брать корм и у них из рук.
В этой тихой лесной обители под гул высоких сосен хорошо работалось Ивану Константиновичу. Монастырь стоял на вершине поросшей лесом горы, и оттуда была видна лента реки среди береговых далей, с ее откосами, отмелями, островками и заводями, с зелеными пятнами заливных лугов. А над этими просторами светилось небо, дышащее летней истомой, и в нем плыли клочья легких облаков. Иногда эти облака сгущались в тучи, и тогда над Волгой повисали косые полосы короткого летнего дождя.
Неделю прожили Иван Константинович и Анна Никитична среди лесного безмолвия Жигулей. И долго после разлуки с этими местами и их обитателями они вспоминали дни, до краев наполненные светом и тишиной. В память тех дней художник написал картину "Волга у Жигулевских гор". Словно береговая стража, стоят у Волги в дымке летнего дня величавые Жигули. Могучая река царственно течет меж крутых берегов. Спокойна ее гладь, как спокойно и ясное небо, отразившееся в волжской воде.
"Черное море"
В ту петербургскую зиму Иван Константинович чаще обычного проводил вечера у Дмитрия Васильевича Григоровича. И сегодня там собрался узкий круг друзей. Айвазовский принес две небольшие голубые марины и подарил одну хозяину дома, другую - Майкову. Обласканное солнцем, голубело море у берегов Ялты, трепетали вдали серебристые паруса рыбачьих лодок.
- Задарили вы нас, Иван Константинович,- растрогался Григорович.
- Я попытаюсь сегодня отдарить стихами Ивана Константиновича, хотя знаю, что стихи мои лишь слабый лепет рядом с могучим голосом его кисти,- отозвался Майков.
- Стихи! Просим стихи!.. - захлопал в ладоши Данилевский. Майков поднялся, обратился к Айвазовскому:
Стиха не ценят моего
Ни даже четвертью червонца.
А ты даришь мне за него
Кусочек истинного солнца,?
Кусочек солнца твоего... Когда б стихи мои вливали Такой же свет в сердца людей, Как ты - в безбрежность этой дали. И здесь вкруг этих кораблей С их парусом, как жар горящим, Над зеркалом живых зыбей, И в этом воздухе дышащем Так горячо и так легко На всем пространстве необъятном,- Считал свой стих, гордился б им И мне бы пелось, вечно пелось, Своим бы солнцем сердце грелось, Как ныне греется твоим!
Айвазовский обнял Майкова.
Через некоторое время Иван Константинович заметил, что Григорович поглядывает на часы.
- Вы кого-нибудь ждете? - осведомился он.
- Да, должен быть Достоевский. Обещался читать новые главы из "Братьев Карамазовых".
- Как? Разве роман не кончен? Не вы ли, Дмитрий Васильевич, говорили мне, что Федор Михайлович в ноябре полностью завершил роман...- удивился Данилевский.
- Это верно только наполовину, Григорий Петрович,- возразил Григорович.- Ведь роман задуман как дилогия. Первую ее часть Федор Михайлович действительно завершил в конце осени. А теперь он приступил ко второй. Первые главы обещал читать сегодня... Только плохо сейчас то, что Федор Михайлович эмфиземой измучен. Анна Григорьевна говорила мне, что и после окончания первой части дилогии отдыха себе не дал. Сразу же приступил ко второй. Он считает ее более важной, чем первую. Главным героем будет Алеша Карамазов, который из инока становится революционером... Кажется, звонок, господа... Верно, Федор Михайлович...
Достоевский поразил Айвазовского своим болезненным видом. Серые тени лежали на сильно постаревшем лице. Дыхание было трудное...
- Видел, видел третьего дня вашу выставку, дорогой Иван Константинович!..- Достоевский обнял Айвазовского.- Нынче я днем никуда не выхожу, работаю, а вот Аполлон Николаевич все-таки вытащил меня поглядеть на ваши новые картины. Спасибо ему за это...
Достоевский сел. Рассеянно помешивая ложечкой в стакане чая, подвинутого ему хозяином, он словно выключился из окружающего. Потом глаза его оживились и он опять обратился к Айвазовскому:
- У меня теперь в рабочем кабинете ваш портрет висит, Иван Константинович. Смотрю на певца моря и пишу о море житейском, о его пучинах. - И тут же без перехода обратился к Григоровичу: - Вы извините меня, Дмитрий Васильевич, но только я обещанное не принес. Три главы написал, а сегодня уничтожил... Не получилось! Плохо получилось!..
- Неужто у вас может плохо получиться? - недоверчиво покачал головой Майков.
Достоевский стиснул руки, лицо его еще больше побледнело:
- Да, плохо, плохо! Чтоб хорошо писать, страдать надо, страдать! А я теперь благополучием окружен, к изящным вещам пристрастился - богемское стекло и хрусталь собирать вздумал... Сердце кровоточить должно, когда пишешь! Босыми ногами по острым камням надо идти к правдивым страницам! И рвать и жечь то, что легко досталось!..
В ту ночь Айвазовский долго не мог уснуть. Суровые слова Достоевского легли на сердце, и Айвазовский ощущал, как растет внутреннее беспокойство... Осуди кто-нибудь другой стремление к житейскому благополучию, он бы только отмахнулся! Но Федор Михайлович затронул самое главное - как писать... Так и заснул Иван Константинович с тревогой в душе.
На другое утро, подчиняясь укоренившейся привычке, Айвазовский вошел в мастерскую. На мольберте стоял чистый холст. Он подготовил его вчера. Подготовил, чтобы выполнить обещание, данное Александре Васильевне Гейне-Самойловой,- написать для нее вид Аю-Дага, который она давно хотела иметь. Но при одной мысли, что вот сейчас на этом чистом холсте начнет возникать легкая воздушная дымка и голубовато-синее море, им вдруг овладело ощущение, близкое к отвращению...
Иван Константинович даже испугался. Вчерашнее беспокойство с новой силой возвратилось к нему... В ушах явственно зазвучали стихи Майкова, и он почувствовал, как краска стыда заливает лицо, шею... Еще вчера он был счастлив от этих стихов и от похвал Достоевского... Но сам-то Федор Михайлович в какой муке пребывает. Готов ради правды в искусстве любую казнь принять... К себе его приравнял! Говорит: "Гляжу на певца моря и пишу о море житейском"... И он не сгорел со стыда, не покаялся тут же перед этим мучеником в искусстве, что дышать одним воздухом с ним недостоин...
Не дождавшись весны, Айвазовский уехал в Феодосию. Как в былые времена, когда готовился писать "Девятый вал", он часами теперь сидел в мастерской, не прикасаясь к кистям, и все думал... Воображение, память снова послушно воскрешали все оттенки виденных когда-либо морских бурь и ритмическое движение волн. Почему-то особенно часто вспоминались зловещие тучи и выплывающая из них луна, которые когда-то с упоением выписал на картине "Море". Долгое время ему даже казалось, что это - лучшая среди его картин. Но теперь он начинал понимать, что и "Море" и последовавшее за ним "Северное море" - все это еще дань романтизму, который глубоко засел в нем со времен ученичества у Воробьева и Брюллова. Не им ли обязан световыми эффектами, сиянием прозрачных морских вод в лучах солнца, лунными дорожками на подернутой легкой рябью поверхности моря... Может быть, тогда это было и хорошо и свежо... Но нынче, когда он тысячи раз запечатлел все эти световые оттенки, неизбежно начинаешь повторяться и - чего греха таить - поневоле впадаешь в рутину... Может, пришла пора уйти со сцены, как поступают уважающие себя и свое искусство артисты? И надо перестать писать, выставляться... Но от одной мысли об этом все в нем начинало протестовать. Нет, хотя на исходе шестьдесят третий год жизни, каждый новый день кажется значительнее и прекраснее вчерашнего. И пока так остро восприятие жизни, нельзя отказываться от участия в ней. А чем, как не живописью, может он участвовать?! Уже не раз возникало тайное сожаление, что рано перестал пристально изучать натуру, всецело положившись на свою зрительную память. Возможно, при том опыте, каким он теперь владеет, ему следует вновь вернуться к пленэру... Сейчас с ним, обогащенным знаниями и умением отбирать зрительные впечатления, не повторится то, что случилось в далекой юности, на берегах Неаполитанского залива, когда после одной неудачи он так решительно отказался от работы на открытом воздухе...
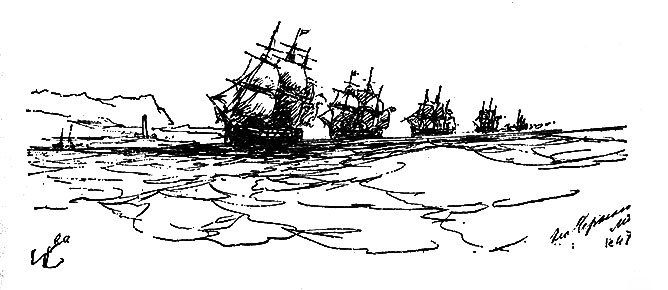
Морская буря
Теперь Айвазовский вновь проводил целые дни на берегу. На прогулки он теперь выходил не только с альбомом, но и с этюдником. И с каждым днем он все больше ощущал необыкновенную радость от соприкосновения с обычной, ничем не примечательной действительностью, так волновавшей его тем, что она существует, и поэтому ставшей для него значительнее самого поэтического вымысла. Наконец настал день, когда художник принялся за свою самую поэтическую картину - "Феодосия".
На полотне изображена бухта в обычный день. Но эта широкая бухта с набегающим прибоем, и сама волна, достигающая берега сильным свободным разворотом, захватывают своей мощной красотой. Светлый влажный день, голубовато-бирюзовый тон воды, силуэты судов далеко в море, затуманенные кучевые облака над берегом, возвышающимся вдали, сидящие на берегу рыбаки - все овеяно покоем. В картине, показывающей обыденную жизнь, много поэзии и раздумий. В ней все осязаемо и материально: и берег, и вода, и даже воздух, пронизанный светом.

Рыбаки на берегу моря. 1852
Долго любовался своим новым творением Айвазовский. Проверял на других, какое впечатление она производит, и каждый раз убеждался, что только обращение к пленэру сможет преобразить его живопись. И хотя "Феодосия" его радовала, но полного удовлетворения художник все же не испытывал. Ему казалось, что по-прежнему он еще находится в плену голубовато-бирюзовых тонов воды, в плену прежней манеры.
Айвазовский полюбил теперь серые дни. Не те дни, когда зловещие облака плотно закрывают небо и волны вздымаются, с силой налетая и раздробляясь о берег, а когда море едва предвещает бурю и поверхность его только слегка колышется. Айвазовского все больше захватывали такие наблюдения. Вскоре его перестала удовлетворять работа на открытом воздухе на берегу. Художник понял, что наиболее удачно можно проследить начало бури в открытом море и никакое воображение не заменит ему непосредственных наблюдений. Он даже придумал название для будущей картины "На Черном море начинает разыгрываться буря".
Айвазовский нанял пароход и в серые дни, предвещающие бурю, начал выходить в открытое море...
В начале октября 1885 года в Галерее Третьякова собрались московские и петербургские художники. Они переходили из зала в зал, внимательно рассматривая картины, собранные Павлом Михайловичем. Наконец художники перешли в зал, где находилась новая картина Айвазовского. Она называлась коротко и точно - "Черное море". Художники видели картину раньше, на персональной выставке Айвазовского в Академии художеств. Уже тогда она вызвала много толков. Но вот прошло время, первые восторги улеглись, многие стали уже привыкать к тому, что Айвазовский пишет по-иному. Однако художники, только что обменивавшиеся громкими замечаниями по поводу той или другой работы, перед "Черным морем" внезапно умолкли. И в этой благоговейной тишине Иван Николаевич Крамской громко прошептал:

Черное море. 1881
- Дух божий, носящаяся над бездною...
Никто не удивился библейскому выражению Крамского. Картина наводила на мысли о первозданном в природе. А Крамской, сделав энергичный жест в сторону многочисленных зал галереи, вдруг не то что сказал, а со страстным убеждением объявил:
- Даже здесь-то, в таком собрании, я поражаюсь смыслом и высокой поэзией этой картины!..
Стоявший рядом Третьяков неожиданно сжал его локоть и глазами указал на любопытных учеников Училища живописи, ваяния и зодчества, собравшихся вокруг: Павел Михайлович не любил громких восторгов, тем более на людях.
- Пойдемте, господа, ко мне,- обратился он к художникам.
В кабинете Третьякова разговор от картины перешел к самому
Айвазовскому. Шишкин, молчавший в галерее, внезапно заговорил из своего угла, куда он забрался:
- А ведь я многим обязан в своем развитии Ивану Константиновичу... Помню, когда юношей в первый раз приехал из провинции в Москву, то по совету одного знакомого тут же отправился в Училище живописи и зодчества, где проходила в то время выставка Айвазовского и Лагорио... Надо вам сказать, что я первый раз увидел картины маслом. Из картин Айвазовского на выставке экспонировался "Девятый вал". Я был потрясен. Тогда же у меня зародилась мысль - что если моря так хороши на картинах, то чем же хуже наши леса и поля?.. Многие из нас, пейзажистов - так или иначе ведут свое начало от Айвазовского...
- Вот вы, Иван Иванович,- начал, по обыкновению конфузясь, Саврасов,- вспомнили выставку Айвазовского в Училище живописи и зодчества... А незадолго до этого на ученической выставке 1851 года был мой "Вид на Кремль". Мой дебют. Я тогда усердно изучал Щедрина, Лебедева, Штернберга, копировал картины Айвазовского... "Вид на Кремль" имел успех, хотя там еще много романтических эффектов... Во всяком случае, вы совершенно справедливо отметили, Иван Иванович, многие вышли из Айвазовского...
- Да-да, и Боголюбов тоже многое взял у Айвазовского,- снова вступил в разговор Крамской.- Умение показать прозрачность воды - это от Айвазовского. Он мне как-то признался, что в академическую пору испытывал на себе влияние его марин, ибо не было никого у нас в то время из современных пейзажистов, который бы обладал такой гаммою красок.
- Зато потом и отблагодарил Ивана Константиновича: всюду распространялся о его картинах, называя их за яркие краски подносами...- едко заметил Третьяков.
- Может, и я в этом повинен,- вздохнул Крамской,- ваш упрек, Павел Михайлович,- камешек и в мой огород... Вы, по-видимому, вспомнили, как в 1875 году я по вашей просьбе осматривал выставку картин Айвазовского в Академии и ни одной из них не рекомендовал приобресть... Я тогда еще писал вам, что таких чистых и ярких тонов, как на картинах Айвазовского, я не видал даже на полках москательных лавок... Ну, что ж, я и сейчас повторю, что он пишет много неважного, но между тысяч его картин есть вещи феноменальные, особенно "Черное море", которое у вас...- Крамской снова загорелся, как недавно в галерее, от волнения он даже слегка пришептывал.- Это одна из самых грандиозных картин, какие я только знаю. На ней ничего нет, кроме неба и воды, но вода - это океан беспредельный, не бурный, но колыхающийся, суровый, бесконечный, а небо еще бесконечнее...
После взволнованной речи Крамского все долго молчали.
- Я все размышляю, в чем секрет "Черного моря",- задумчиво произнес Шишкин,- но особенно поразил меня рисунок в изображении волн; тут, я вам скажу, так прорисованы сложнейшие их изгибы, что прямо теряешься... Волны так и вздымаются - одна за другой. На них пока только небольшие гребешки. Но подождите - вот-вот море разгуляется...
- А я вот о чем думал,- воспользовался паузой Саврасов.- Отчего такое небо на картине у Ивана Константиновича? Вы заметили, что оно покрыто многими слоями туч, они-то и подчеркивают его глубину или бесконечность, как приметили вы, Иван Николаевич... А написаны тучи-то как: те, что более низкие и кучевые у горизонта - в лиловых тонах со стальными тенями. А колорит воды! Глубина воды синеватая, глухая, и. лишь по краям двух волн переднего плана заметны зеленоватые прозрачные тона, это оттого, что там падает более сильный свет... Надо же так уметь! А все потому, что Иван Константинович поэт моря и чувствует природу, чувствует... И еще оттого, что к пленэрной живописи обратился, а она, голубушка, таит в себе такие возможности, что дух захватывает...
- Господа,- тихо промолвил Третьяков,- я очень рад и за русскую живопись, и за Айвазовского, и за себя, что его "Черное море" в собрании Галереи; во всем этом я вижу и вашу заслугу: новым пониманием живописи вы и его заставили призадуматься, искать новые пути. А ведь человеку почти что семьдесят лет... Теперь он принадлежит новой живописи, хотя и не передвижник...
- Не передвижник, зато подвижник! - откликнулся Крамской.- Айвазовский имеет право на внимание к себе со стороны истории... Он звезда первой величины, и не только у нас, а в истории искусства вообще...
По выходе из Галереи Крамской и его друзья не разошлись, а направились по узкому переулку к Москве-реке. По дороге они еще продолжали говорить об Айвазовском.
© I-AIVAZOVSKY.RU, 2013-2021
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://i-aivazovsky.ru/ "Иван Константинович Айвазовский"
При копировании материалов просим ставить активную ссылку на страницу источник:
http://i-aivazovsky.ru/ "Иван Константинович Айвазовский"